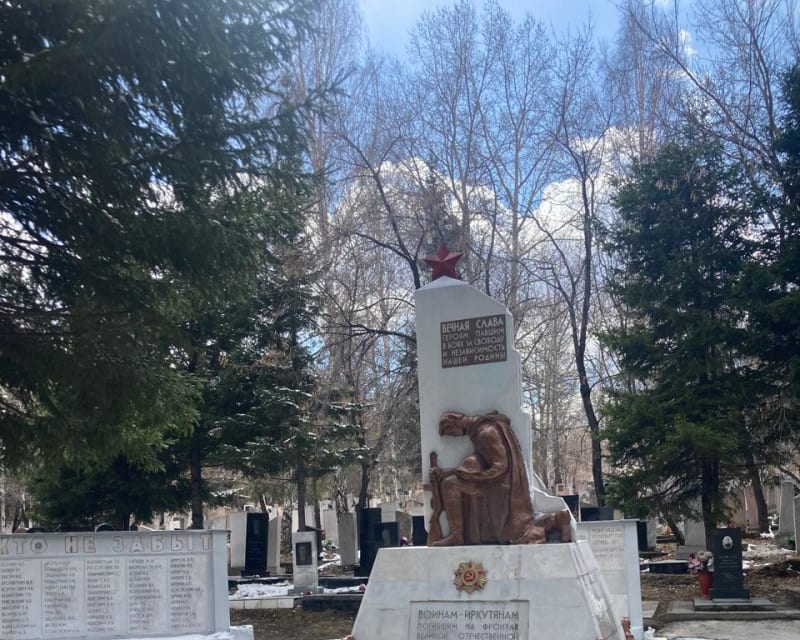Слово об Алексее Окладникове
Спешу поделиться ещё одним маленьким открытием из прошлого «Восточки», познакомить с ещё одним, можно сказать, извлечённым из небытия автором газеты. Представляю: Алексей Павлович Окладников – наш выдающийся земляк, историк, археолог, этнограф, организатор науки, действительный член Академии наук СССР, лауреат Государственных премий, Герой Социалистического Труда.
Да, ровно 90 лет назад наша газета в течение месяца с небольшим опубликовала четыре статьи тогда 19-летнего студента Иркутского педагогического института Алексея Окладникова. Известно, что он родился в деревне Константиновка Верхоленского уезда, детство провёл в селе Бирюлька, а школу закончил в Анге, где существовал краеведческий кружок. Именно там он увлёкся прошлым своей малой родины и это увлечение продолжил в Иркутске в этнографическом кружке «Народоведение», руководимом знаменитым профессором Бернардом Петри.
И уже первую статью во «Власти труда» под названием «Бирюльские бунтари» Алексей начал как завзятый исследователь быта, нравов и культуры родного края (не случайно вскоре после этих публикаций его взяли на должность заведующего отделом этнографии Иркутского краеведческого музея). Вот это начало:
«Бирюлька» – звучит довольно легкомысленно благодаря созвучию с пресловутой игрой в «бирюльки». Игра в «бирюльки» и село с более чем двухсотлетним прошлым, однако, имеют лишь внешнее сходство. От тунгусского слова «бирокон» (река) произошло название Бирюльки, как от слова «баянжаруга» – название Банзерка, видоизменённое затем в Манзурку».
И далее автор рассказывает про бирюльский бунт – единственный в Восточной Сибири крестьянский бунт 17 века. Его причиной стало лихоимство Павла Халецкого, управлявшего бирюльскими пашенными, то есть государственными крепостными крестьянами Бирюльской царской вотчины (а говорят, что в Сибири не было крепостного права!). Не вдаваясь в подробности этой истории, приведу заключительный абзац его статьи:
«С тех пор прошло два века. Но о бунтах 1692 года Бирюлька забыла. «Ни сказок о них не расскажут, ни песен о них не споют»…Такова судьба многих событий прошлого, пока до них через наслоения вековой пыли не доберётся краевед или историк».
Ну а остальные три статьи – это «чистая» этнография, жизнь, как пишет Окладников, «моих друзей – аборигенов Верхоленья». Для исследователя такого возраста излагаемые в них наблюдения, чёткость мысли и оценок – это крайняя редкость. Вот пример:
«Ясачные стоят на грани двух миров, двух искони сложившихся национальных культур. Монгольский и славянский мир столкнулись здесь лицом к лицу в родственных объятиях…
Кровь казацких авантюристов побеждает восточную лень. Новый тип побеждает своей крепостью организма. Если в юрте бурятская люлька редкость, то крепкие семьи ясачных спокойно множатся…
Нет сомнения, что ясачные имеют своё будущее…
Так просто история, жизнь разрешила сложные национально-евгенические проблемы улучшения людской породы».
* * *
Осенью 1973 года мне довелось быть в длительной командировке в Новосибирске. Однажды дозвонился до Окладникова и попросил у него статью для газеты о работе комплексной экспедиции возглавляемого им Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР на острове Ольхон и ближайшем побережье Байкала. А он, услышав, что я из «Восточно-Сибирской правды», пригласил к себе домой.
Мы беседовали на втором этаже его коттеджа в зелёной зоне Академгородка. Это не было интервью, Алексей Павлович просто рассказывал о себе и своих научных исследованиях. Конечно, я задавал какие-то вопросы, однако, не зная тогда, что он так и не окончил педагогический институт и без высшего образования защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертации, стал академиком, что в молодые годы печатался в нашей газете, конечно, не спросил его об этом. На прощание он вручил обещанную статью, которую мы вскоре напечатали под заголовком «Загадочный и удивительный Ольхон».
И ещё, вспоминая годы жизни в Иркутске, занятия в этнографическом кружке у Петри вместе с тоже будущими великими учёными 20 века Михаилом Герасимовым и Георгием Дебецом, он неожиданно сказал:
– А вы очень похожи на Дебеца в молодые годы…
Я тогда только слышал эту фамилию, знал, что он выпускник Иркутского университета, но никогда не встречал ни его самого, ни его фото. И только вот сейчас, зайдя в Интернет, обнаружил, что да, сходство какое-то есть.
Таким был Алексей Павлович – внимательным, памятливым, прозорливым, глубоким человеком и учёным.
* * *
Из цикла таёжных былей
Кокуйская живая старина
Алексей Окладников, «Власть труда», 7 сентября 1927 г.
«Кокуй» – не в пример «Чанчеру», «Цакюрам» и прочим людским названиям тунгусско-бурятского происхождения – слово исконно русское. В глубокой Московской старине после свадьбы девушке, осуждённой на теремное затворничество, давали кокошник, приговаривая:
– На те кокуй – с ним и ликуй.
Выходцы из Большого Новгорода были первыми вольными колонизаторами диких северных окраин. Ушкуйники, в отрядах казачьей вольницы – дали Новгородский пригород Кокуй. Голубоглазые северяне, перебросившие полуразбойничьи торговые операции с Волхова и Камского заволочья на «Великую Сибирскую реку Лену». Понастроили на Лене целых три «Кокуя» и внесли окающую струю в местный говор.
* * *
Бирюльский Кокуй был местом, где поселились первые русские «насельники» этого района. Древностей в нём много.
Целые избы, сложенные «по старинке», из толстых брёвен – «в обхват», вросшие наполовину в землю, просятся в музей. В дряхлых избёнках хранятся не менее древние кутные заборки, причудливо разрисованные диковинными зверями «вроде» льва из Апокалипсиса с шестью лицами и хвостом, напоминающим цветок. Цветы здесь, наоборот, похожи на репу и прочие небывалые вещи.
Эти прихотливые, в капризной изощрённости, изгибы узорочья как будто сошли с заставок и ковцовок «Остромирова Евангелия» и летописей, написанных под угрюмыми сводами древних монастырей.
На других заборках красочно пестреют амурные сценки. На них неизбежен бравый герой в офицерской форме эпохи Петра 1-го с лихо закрученными усами с осиной талией. Рядом дама в фижмах и с цветком в руках, под диковинным деревом.
В калейдоскопе других композиций сменяются дома старинного европейского типа, сражения с турками и т.д.
Так автор их, отставной солдат из армии Петра или Екатерины, невольно выдаёт себя военными мотивами, как художник, рисующий с проникновенною любовью изгибы цветов и дивную птицу древних легенд – Сирин’а, не скрывает родства с книжником-монахом, рисовавшим миниатюры на толстых листах пергамента книг эпохи русского средневековья.
Не случайно «Егорий Храбрый», наиболее близкий к рыцарскому эпосу воинственный святой, сближает кисть ученика иконописных школ с творчеством бравого вояки, работавшего на заборках.
Сверстники заборок, небольшие окошечки избёнок, приземлённых бременем минувших лет, совсем недавно потеряли слюдяные и брюшинные рамы, которые так часто проклёвывались догадливыми жуланами до дыр. Ветераны, смещённые стеклом, мирно лежат и посейчас на «пятрах» вместе с различной ветхой рухлядью былого времени.
* * *
Такой старинной, по-здешнему – «закалдышной», обстановке под стать и здешние люди, упрямо хранящие старые поверья и легенды, покрытые вековой копотью.
Здесь широко «гуляют». Много пьют, провожают на льду «Ключа» широкую масленицу, весело завивают раннею весной белую кудрявую берёзку, чинно молебствуют о дожде, а в засухе винят безбожную «Кумынию».
«Кокуй», застывший в неподвижности, может служить недурной иллюстрацией к словам С. Есенина: «Ты, Рассея моя, Рассея, Азиатская страна». Азиатская «Рассея», как известно, без бога немыслима. Но бог ей нужен исключительно для хозяйственных надобностей. Вот почему:
«За безбожие – бог дожжа ни дас» и «кушать нам вшем будит нечиво», – шамкает дряхлый кокуйский дед.
По той же самой причине после Мурницкого Миколы самый большой бог – грозный Илья – тот, что заведует «дожжичком».
* * *
Было это позднею весной, в июне, когда пахали жатву. Небо вместо влаги струило потоки яркого солнечного света. В бездонной синеве терялись дрожащие голоса богомольцев на полевом молебне.
С первыми каплями обманчивого дождя ребятишки также напевали:
– Дай бог дожжя, штобы рошь расла.
Или обращались непосредственно к дождю:
– Дожжик, дожжик, припушти, мы паедим за кусты!..
Не помогала и ребячья несложная «магия». «Дожжик» быстро проходил к безучастным, в вечной синей дымке, куполам Байкальских гольцов. Снова трескалась просохшая земля.
Зыбко нарастали торопливые слухи о дождливых реках, обещанных бурятскими шаманами.
По части «творимой легенды» Кокуй не отстал. Рассказывают:
– Пахал, етта, мужичёнка один наш, заполошной, на Еромофской горе жатву. Вдруг как вдарит гром!.. Глядит – старик седой позади стоит. Борода до кален… Старик после разговора о хозяйственных делах обещал засуху до «Первого Спаса», а там 13 дней и ночей ливень. Одним словом – «патопишшу».
Легенда гуляет теперь по району, украшенная досужими людьми, ожидающими потопа после явления Ильи кокуйскому «фарамону».
«Враницы» находят хорошую почву в 200-летних наслоениях кокуйской темноты, как крапива на жирной почве.
Так, на десятом году советской власти через окошечки «Кокуя» смотрит на новый мир Московская набожная Русь.
* * *
Фортуна алчущих…
Алексей Окладников, «Власть труда», 11 сентября 1927 г.
Разговор таёжника краток и сух. Болтливость излишяя в глухих падях, куда торопливо пробирается лёгкий треск шагов охотника, «скрадывающего» зверя в удобных, своего рода мокассинах на тунгусский манер, «олочах».
Тайга молчаливо живёт своей настороженно чуткой жизнью. Здесь ловят каждый шорох. Обитатель хвойных дебрей обязан быть «на чеку». Одинокий человек, вступивший на таёжную тропинку или на мягкие подушки зелёного мха, не исключение для закона тайги.
Не с кем да и незачем разговаривать таёжному охотнику, затерянному в своём одиночестве, под сплошным сводом густовершинных кедров и обомшелых лиственниц.
Так печать таёжного безмолвия заканчивает резкою чертою облик скуластого человека тайги в обычных «олочах» и с неизбежной берданой.
* * *
Бывают, впрочем, случаи, когда просыпается жажда слова и у крепких на речь таёжников. Таково, по крайней мере, впечатление от крестьянского собрания по дележу покосов. На делянке отдельные вскрики, резкие звуки петушиного тембра сливаются в общий нестройным шум, в гуденье растревоженных обитателей «строчьего гнезда» на таёжной опушке.
Яснее всего слышна чётко отпечатанная в воздухе истинно-русская брань. Её клочки таёжной гарью, чёрными клубами повисли над обширной поляной и стелются сплошной пеленой по черёмуховым кустам, окаймляющим берег таёжной речёнки Кликты.
Мат ведь общепризнанное средство доказать правоту своего мнения. Мат вдобавок заменяет эсперанто таёжным нацменам в сношениях с русскими. В серьёзном деле без него нельзя, как и в беседе.
Делёж тянется в лесу 2 дня, а до этого потеряно было не менее 4-х рабочих дней, «ежели бы вжялись вшем народом в ети дни – вешь покос бы убрали!» – говорят хозяйственные люди.
* * *
Над гудящим сборищем людей в безмолвном спокойствии нависают массивы известняковых скал «Мысогола».
Фантастические очертания разрушенных каменных стен, гигантских лестниц, сложенных как будто руками легендарных «батырей» бурятского народа, сменяются провалами распадков, по которым разостлано зелёное рядно мелколесья. Чем дальше – тем живописнее становятся красные от коры лишаёв гигантские каменные груды.
За отвесным пиком, подпершим хмурое небо, встают «Три Брата», «Кирпич» «Подкова», а дальше ребристый склон горы в раздумье сползает к Лене. А Лена жадно рвёт куски берегов и уносит их, шлифуя…
Настолько необычно-дик был для древних степняков скальный хаос, что грозным «эженам» Мысогола жертвовали буряты по ленте, по пряди волос из гривы коня и «угоняли» поспешно на быстрых лошадях от обители духов. Общение с богами – привилегия шаманов.
Потомки разбойной разиновской вольницы перенесли сюда из Жигулей волжские разбойничьи сказы о заколдованных кладах.
Недаром здесь по ночам мерцают синие огни, а счастливцам попадаются «корчаги» с деньгами времён Петра и Екатерины. Этот «фарт», нередко снящийся неугомонным старателям, лелеет у всех голодную мечту о золотишке. Фортуна, однако, капризна.
– Нашла, вить, глупая дифчёнка целу крынку сприбрушык, – почти обиженно говорит одни «алчущий» «стариновскова залатишка».
«Кто добирёцца до пищеры, спуштишь внис, дверь там будит жилезна, аткрой ниё, вше дабро твоё будит» – гласит несложная устная инструкция искателям легендарных богатств. Но добраться до них, очевидно, никому не суждено…
* * *
Сходка-собрание подходит к концу. Своеобразный аукцион «отмётов», на которые набиваются лишние «души», разгружая «Ямку и Калтус». Бурные схватки, лобовые атаки и дипломатические оттяжки и. т.д.
Победа осталась за калтусниками, что позажиточней и посильней, а беднота осталась «грызть» соседнюю «ямку», на этот раз однако с компромиссом: из 2 паёв – 1 на ямку.
В результате делёжки у кого 6–10 копон сена, у кого 25–40 на одном пае.
Кстати, любопытный штрих – счёт вырезанным ремешкам паёв ведут одновременно двое: член сельсовета на бумажке и дряхлый дед на первобытном «рубише», т.е. бирке. Оба проверяют друг друга.
Делёж покосов лишь маленький уголок деревенской экономики, верней, её отражение в сложившихся исстари правовых нормах. Тем не менее вряд ли найдется другой более яркий пример движения экономики лесной деревни в узком русле патриархальной косности и дедовских обычаев.
* * *
На грани двух культур
Алексей Окладников, «Власть труда», 13 октября 1927 г.
Над головою застыла вечная гримаса морщинистых сопок, свидетелей тех дней, когда здесь колыхалась стеклянная гладь Кембрийского или Девонского моря, неторопливо ползали наши предки – трилобиты…
Мои друзья – аборигены Верхоленья – уверены в другом, что «как был потоп, да сбежал, так все рытвины и качугуры и вырыл»…
Ещё один упруго-мягкий поворот «Коровьей тропки» – и в дикой отчуждённости бугра чернеет силуэт шаманского «Обо». Koнуc жертвенника из красных плит осеняют белые берёзки с клочками шёлка и конских волос – приношений божеству. Кругом молчат немые вершины – жилища богов, хода-убугунов (горных старцев) и прочих духов шаманской мифологии.
Здесь на каменном «шире» ежегодно совершается жертва далёким владыкам вод – «Ухан-Хатам». Бьётся связанный мерин у подножья «шире», прогоняя пронзительным криком покой задремавших вершин. Из вспоротой груди ещё живого существа вырвано сердце и кровавым куском содрогается на жёстких камнях жертвенника.
Дикие божества бурят довольны немногим от кровавой жертвы. Остальное мясо кладут в котлы. А потом едят полусырые сочащие кровью куски мяса.
Так совершается «тайлаган».
Сейчас же на плоской вершине «шире» белеют пережжённые кости и чёрным глянцем отливает хрупкий обломок лопатки, испещрённый змеистыми чертами трещин – иероглифами шаманской «грамоты».
Мой спутник-бурят бросает скупые редкие слова. Ветер рвёт их прозрачную сеть, сквозь которую синеют туманные дали, и бросает обрывки легенды ко мне:
– У попа книги есть… У ламы тоже… А у шамана нет… По памяти болтает всяко… Помнит.
И у шаманов книги были, да овцы съели.
Оттого теперь шаман глупей овцы лопатки жгёт… По лопаткам читает. Нам не видно, а он знай ворожит…
В потаённом углу у камней скуластый лодочник с необычно серым цветом узких глаз задаёт традиционный вопрос:
– Ты чей? Ты откуда будишь?
Безродных, безулусных людей – не знала древняя степь, где кровное родство было гарантией мирного труда. Старик перевозчик – ясачный из Байрак (деревня ясачных).
Ясачные стоят на грани двух миров, двух искони сложившихся национальных культур. Монгольский и славянский мир столкнулись здесь лицом к лицу в pодственных объятиях. Церковные архивы сообщают: «Бирюльской слободы, Покровской церкви священнику Анфиму Шергину…
Ясашного братской породы Ильи Горбунова объявление. Возымел я вступить в законный первый брак на засватанной мною невесте той же слободы… О чём вашего благословения покорнейше прошу сие мое объявление принять» и т.д. и т.д.
В тех же архивах хранятся прошения «брацких людишек, некрещённых, в идолопоклонническом заблуждении пребывающих. Направленных на имя «высокопресветлейшего великого государя» с просьбой разрешить крещение.
Это было, конечно, официальной церемонией. Главную же роль играли богачи ростовщики XVIII века Горбуновы, пахавшие на ста сохах чужими руками, а позже Сапожниковы. Оттого-то в ленских улусах обилие Сапожниковых и Горбуновых. Начальство наградило новокрещенцев свободой от рекрутчины, податей и своими фамилиями.
Тем не менее и до сих пор ясачные близки «богомерзким шаманским действам».
Сильнейший отпечаток бурятской культуры лежит на ясачных.
Ясачные смело врубаются в заповедные недра шаманских pощ, рубят вековые лиственницы, хранящие кости шаманов в дупле.
Не трогают лишь шаманских «оргаев» (облачений) и ящиков (престолов «шире»).
– Дров нету, – оправдываются порубщики. «Шаманка» только и поддерживает.
Разбросанные по-улусному деревушки ясачных золотом новых крыш, высокими пятистенными домами выгодно отличаются от посеревших русских деревень и приземистых улусов.
Кровь казацких авантюристов побеждает восточную лень. Новый тип побеждает своей крепостью организма. Если в юрте бурятская люлька редкость, то крепкие семьи ясачных спокойно множатся.
Повышается культурный уровень, растёт экономическая мощность их хозяйств. Ясачная молодёжь почти поголовно грамотна и, прекрасно зная быт улуса, может дать лучших культурных работников для бурятского края.
Нет сомнения, что ясачные имеют своё будущее.
Так просто история, жизнь разрешила сложные национально-евгенические проблемы улучшения людской породы.