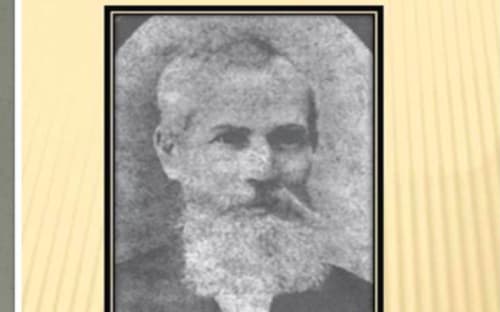Собирая осколки времени
Собирая
осколки времени
О
чем рассказали старые фотографии
Виктория ГАЛКИНА
Рассказ о
cемейном альбоме я решила начать с
"особой папки". Она плотная,
коричневая, внутри обклеена
пожелтевшей бумагой с мелким
узором. На лицевой стороне в
золоченых виньетках надпись: крупн4
— "Красная книга", чуть
помельче — "имени 17-го съезда
ВКП(б)". Еще ниже в углу — "г.
Иркутск, гороно, 1934 год".
Как же эта
папка попала в нашу семью?
Мама во время
войны работала инспектором Иркутск
гороно. Может, эта папка лежала там
в каком-нибудь старом шкафу?
Зловещая
какая-то надпись. 1934-й — год 17-го
съезда, съезда расстрелянных. Кого
же занесли в "Красную книгу"?
Уцелевших? При чем тут гороно?
Уцелевших учителей?
В папке
всегда лежали старые фотографии. С
них и начну.
Первая — мои
дед и бабушка после свадьбы. Дед
Семен Круглов — горный мастер на
Баргузинских золотых приисках.
Бабка Мария, в девичестве Нелюбина,
— из семьи мещан.
Дед женился
на Маше Нелюбиной, когда ей было
всего 16 лет. Увез ее из Иркутска в
Баргузин, поселил в доме, где все
было устлано звериными шкурами.
Марья родила ему пятерых детей:
Михаила, Анастасию, Валентину,
Августу (это моя мама), Георгия.
Семен
Круглов, видимо, был человек
незаурядный, выучился, как говорила
мама, на медные деньги, на
спонсорские, как сказали бы сейчас.
Пожертвовал на его образование
какой-то сибирский промышленник,
Маркшейдер на приисках да еще
золотых — это по тем временам была
фигура.
Семейство
Нелюбиных имело в Иркутске дом на
Набережной Ангары. Он до сих пор
стоит-красуется всеми своими
окнами в резном узорочье.
В истории
каждого семейства есть айны. Тайной
окутана смерть деда. Как всегда,
прискакал с приисков нарочный и
сообщил, что маркшейдер Круглов
простудился и умер. Потом бабушка
узнала, что его, уже мертвого,
подняли на поверхность из шахты.
Бабушка осталась одна с пятью
детьми.
Тут в нашем
генеалогическом древе появляется
мощная ветвь, человек почти легенда
— Николай Александровский,
политический ссыльный, большевик.
Бабушка вышла за него замуж. Взять
вдову с пятью детьми — это был
поступок, тем более что
Александровскому, фельдшеру,
работать по специальности не
давали.
Вскоре
кончился срок его ссылки в
Баргузине, и семья перебралась
сначала в Кяхту, а потом в местечко
Юро, где был карантинный пункт: в
Монголии тогда свирепствовали
эпидемии, были даже вспышки чумы.
И вот еще
одна фотография. Трое детей: Михаил,
Августа, Георгий. Штамп
"Фотография Семена Ивановича
Ермолина", дата — 1912 год. Почему
только трое? Две мои тетки,
Анастасия и Валентина, были еще
девочками отданы на воспитание в
богатые семьи, видно, фельдшеру
Александровскому в материальном
отношении приходилось туго. Тетя
Валя жила в Каани, а тетя Тося —
красавица, вместе с семьей
полковника царской армии во время
революции уехала в Харбин. , Дяди
Вити — Виктора Николаевича
Александровского — еще нет, он
родился в 1917-м. Инженер по
образованию, он стал писателем,
долгие годы жил в Хабаровске. В
книге очерков о Монголии написал о
событиях 1921 года, трагических для
нашей семьи.
Тогда Кяхту
взяли белые, унгерновцы и, конечно,
с , ьшевиками расправилис,ь
по-страшному. Николая
Александровского облили бензином и
подожгли. Мишу — к тому времени тоже
большевика — зарубили топором в
подполье.
Накануне
взятия Кяхты белыми Николай
Александровский двумя подводами
отправил семью в Иркутск. Был
январь 1921 года. Сначала отправили
маленького Витю с матерью, потом
дядю Георгия с моей мамой. Дядя был
тогда подростком, сам правиль
лошадьми. В степи их сани остановил
бандит хунгуз. Дядя каким-то чудом
отбился от взрослого мужика. А в
санях, укутанная тулупом, лежала
мама. Ей в это время было 15 лет. , Как
эти подводы добрались до Иркутска —
один бог знает. Все поселились в
доме на Набережной. Бабушку, когда
она узнала о смерти мужа и сына,
разбил паралич, но она осталась
жива.
От Юро, по
словам дяди Вити, вообще ничего не
осталось. Все поглотила степь.
Правда, он нашел в степи остатки
мельничного жернова и смутно
припомнил, что была мельница, и он
даже катался на колесе.
Странная
все-таки эта штука — жизнь; уж и
людей, которые мололи муку, нет на
свете, нет и мальчишки, который
катался на колесе, а жернова все
лежат и лежат в бескрайней
монгольской степи.
Бывала я в
Кяхте — удивительный городок, как
бы застывший во времени.
Карантинный пункт, который
преграждал дорогу чумным
эпидемиям, почему-то ассоциируется
у меня с таможней из "Белого
солнца пустыни". Многое ушло в
небытие, заросло степной травой.
История
семьи продолжилась в доме на
Набережной, точный его адрес —
улица Набережная Ангары, угол
Казарминской N 1/12. Сохранился
потертый на сгибах плотный лист —
свидетельство, выданное маме,
Августе Семеновне Кругловой, в том,
что она, поступив в 1924 году в
Иркутский университет, в 1928 году
окончила курс по лингвистическому
отделению педагогического
факультета. Мама училась у
Азадовского, чем гордилась всю свою
жизнь.
После
окончания университета она стала
учительствовать в школе близ рощи
"Звездочка". Зимой ходила на
работу по льду Ангары, остальное
время года — через понтонный мост.
На фотографиях тех лет у нее шапка
кудрявых волос — волосы стали
виться после перенесенного ею тифа.
В 1930 году в
нашем архиве появились фотографии
моего отца — молодого врача.
Интеллигент в первом поколении, он
любил рассказывать о своей деревне
Ракша в Тамбовской губернии, бывшем
имении графини
Воронцовой-Дашковой. Говорил, что
до 15 лет пас гусей и ходил в
домотканой рубахе до пят. Он
единственный в многодетной семье
закончил церковно-приходскую
школу.
Отец
закончил сначала Красноярское
художественное училище имени
Сурикова. Его картины до сих пор
висят в нашем доме. Техникой
живописи владел блестяще, но что-то,
видно, говорило ему, что это — не его
путь. В 1923 году он поступил в
Иркутский университет, затем в
Восточно-Сибирский медицинский. А
годом позже мои родители уехали в
Бодайбо.
О
бодайбинском периоде жизни надо
было бы рассказать особо, ведь это
были 30-е годы. Фотографий
сохранилась целая кипа: отец
увлекался фотографированием.
Вообще это была, видимо, вершина
жизни моих родителей. Отец с
увлечением работал, много рисовал,
учился играть на классической
шестиструнной гитаре. Из далекого
Бодайбо летал в Москву на концерты
испанского гитариста Андре
Сеговия.
Я засыпала
под музыку. Помню, после поездки
отца в Москву наша "Виктрола"
вдруг зазвучала как-то по-иному:
отец привез редкую американскую
пластинку — прелюдии Рахманинова в
исполнении симфонического
оркестра с органом.
Остался в
памяти запах весенней дороги, по
которой идем мы с бабушкой. Помню
старателей в необъятных шароварах
в складку, такие штаны назывались
"мотня". Припоминаю какого-то
мальчишку, который, как говорили, за
день намыл спичечный коробок
золота.
Золото тогда
дозволялось намывать чуть ли не
всем, утечки не было, потому что его
принимали по приличной цене и
расплачивались бонами. А на боны
можно было отовариться в
"Торгсине" качественными
импортными вещами.
На
фотографиях тех лет — прилично
одетые люди в меховых шубах,
беретах. Учителя с портфелями,
которые сейчас входят в моду, на
детях пальто с пелеринами,
закрученные винтом кашне, капоры из
лент, меховые шапки с длинными
ушами. На всех, и девчонках, и
мальчишках, матроски и ботинки со
шнурками. Нигде ни малейших
признаков трагедий тех лет —
пикники, праздники, улыбающиеся
лица…
В 1937 году
родился мой брат, умерла от разрыва
сердца бабушка. Смутно припоминаю,
как мы с мамой стучим в окно, в доме
плачет трехмесячный Юрка — его,
почувствовав неладное, бабушка
аккуратно спустила на пол и, уже
падая, отодвинулась, чтобы не
придавить ребенка.
Я помню
комнату отца, полную дыма, такого
густого, что невозможно дышать,
отец не спал несколько ночей,
непрерывно курил трубку. Его
арестовали, но произошло чудо —
выпустили через несколько дней.
Почему? Он был коммунистом с 1919
года, участником гражданской войны,
наконец, единственным
рентгенологом на весь район. Но
вряд ли это объясняет случившееся.
Мама
рассказала мне, что в начале 1937-го
арестовали большую группу, в
основном интеллигенции, отправили
баржой в Иркутск. Мама вспомнила,
что, когда баржа тронулась по
Витиму, арестованные запели
"Распрягайте, хлопцы, коней…".
Стояли они в барже по колено в
соленой воде — раньше на ней возили
рыбу.
А потом из
Иркутска приехала какая-то
комиссия, которая, видимо,
попыталась по сути разобраться в
происходившем. Часть арестованных,
уже "второй очереди",
выпустили, в том числе и отца. А
когда комиссия вернулась в Иркутск,
ее расстреляли прямо на летном поле
аэродрома.
В 1940 году
отца отправили в Иркутск на
годичные курсы. Мы поселились в
гостинице "Горняк", на улице
Ленина. Проходя теперь мимо этого
здания, я всегда смотрю на балкон,
на котором играла когда-то.
Мама стала
работать в 15-й школе. У нас с Юрой
появилась няня, заядлая театралка,
которая постоянно водила нас в
театры. Запомнились "Свадьба в
Малиновке", "Золотой
ключик", песня про серебряного
кролика из какого-то тюзовского
спектакля.
В Иркутске
нас застала война. Отца сразу взяли
на фронт, всю войну он проработал в
полевых госпиталях, практически
без защиты от рентгеновского
излучения, вернулся майором
медицинской службы и, как позже
стали говорить, с "лучевкой".
На лбу у него вспыхивали красные
пятна.
Войну мы
прожили в двух крохотных комнатках
коммуналки. Дом этот цел, но яблоня,
на ветках которой я часто сидела с
книжкой, засохла, огромные тополя
облезли, двор, где я помню каждый
дом, сарайчик, кустик, изменился и
стал чужим.
Военных
фотографий несколько: до
изнеможения исхудавшая мама, мы с
братом, тоже тощенькие, ноги в
ботинках, как пестики в ступках.
И самая моя
любимая фотография — я на коленях у
отца, вернувшегося с войны. Такое
острое, такое полное счастье. Эту
фотографию я не положила в
"особую папку". Она открывает
уже другой семейный альбом,
возможно, я когда-нибудь напишу и о
нем, ведь сороковые-пятидесятые —
это уже тоже история.