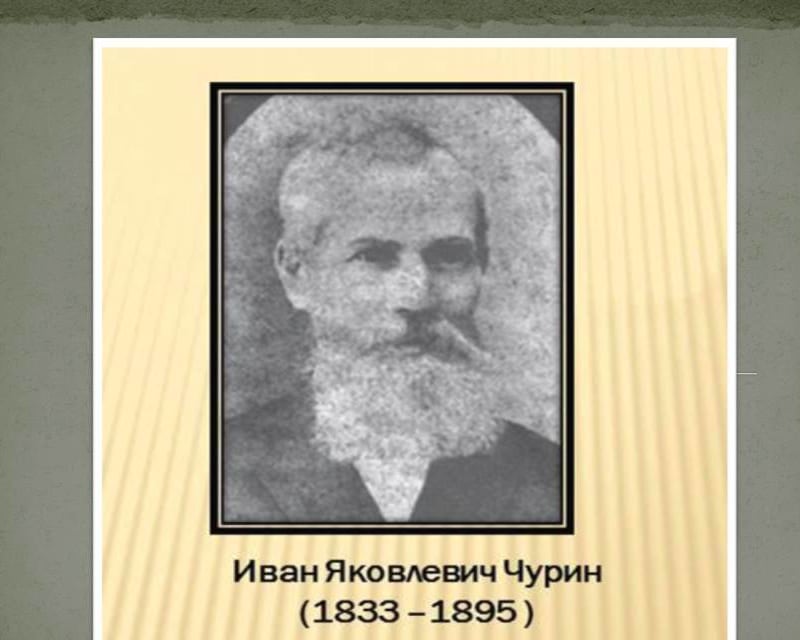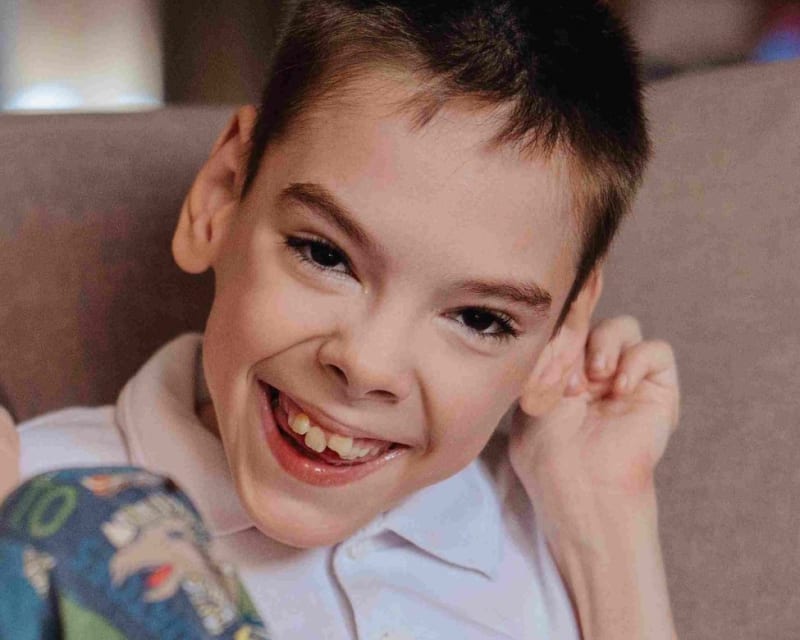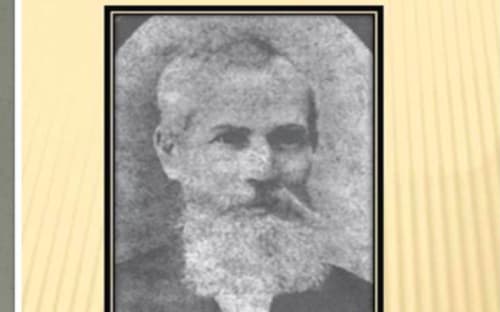Голос сибирской окраины
Экспедиция в Казачинско-Ленский район этнографа Галины Афанасьевой-Медведевой и журналиста «Восточно-Сибирской правды» Елены Трифоновой
Карам расположился на правом берегу Киренги. Характер у неё крутой, своенравный, это вам не тихая равнинная речка. Киренга берёт начало на северо-западном склоне Байкальского хребта, а потом сквозь тайгу и гольцы пробивает свой путь, накручивая петли, образуя множество порогов и перекатов. Вот и люди на её берегах испокон веков жили такие же – сильные, самодостаточные. Недаром Киренга по-эвенкийски значит «орлиное гнездо».
Начало в №№ «ВСП» от 11, 18, 25 марта
Русские переселенцы пришли в эти места в 17 веке и облюбовали плодородную речную долину. Их не напугало отсутствие дорог, связи и производства – времена были другие, да и люди тоже. Распахали поля до самых горных хребтов и стали выращивать хлеб, которого коренное население – эвенки и тунгусы – отродясь не видывало. Русские, в свою очередь, поражались тому, как тонко чувствуют природу «лесные люди». Словом, им было чему поучиться друг у друга.
– Говорят, в советское время за свой лес эвенки боролись насмерть, – рассказывает экс-мэр Казачинско-Ленского района Николай Наумов. – Во времена строительства БАМа в районе создали сразу три леспромхоза, началась массовая заготовка леса. Но едва власти решили создать в этих местах четвёртый леспромхоз, эвенки отправили «своему» депутату в Москву ультиматум: «Если сделаете это, мы над своей тайгой ни одного самолёта не пропустим, из ружья собьём». Власти подумали-подумали и решили не связываться.
Неизвестно, была такая история на самом деле или нет, да это и не важно. Важно, что она сохранилась в преданиях как пример маленькой победы народной воли, однажды определившей ход вещей. Давно уже те леспромхозы развалились, но лес по-прежнему рубят, уже не соблюдая никаких законов. И только местным жителям нельзя без разрешения вы-
нести из леса ни единого бревна, чтобы сарай починить, ни сухой деревины, чтобы зимой печь растопить. Цены на дрова в этом таёжном углу вполне сопоставимы с иркутскими. Карамские участки переданы в аренду лесозаготовителям, причём в договоре социального партнёрства не оговорён пункт о помощи местным жителям. Для карамчан оставлен один квартал строевого леса, которого хватит на два года. Чтобы получить разрешение на заготовку древесины, им нужно направить заявление в агентство лесного хозяйства, которое спускает его в нижестоящие инстанции в район. По недрам бюрократической машины бумага может плутать 4-5 месяцев и на выходе превратиться в отказ. Только и остаётся вспоминать легенды, которыми полна местная земля.
Бабушка Инеко
Недалеко от реки Киренги, возле деревни Муриньи стоит скала Инеко – «Бабушка» в переводе с эвенкийского. Раньше говорили, что бабушка там живёт. Этой бабушкё принято «брызгать». Что есть с собой, тем и брызгают – «винишком, так винишком, а чаем, так чаем», бабушка Инеко не обижается. Доезжаешь до речки Сухой, или оборки, – тоже побрызгаешь и скажешь по-эвенкийски: «Букол кутоё» – «дай фарт». Так эвенки просят удачу у своих духов.
«А как ты хотела, дева, здесь тунгусьи места, – говорит Дарья Яковлевна Сафонова, к которой мы пришли в гости с самого утра. В избе у неё светло, на чисто вымытом полу лежат пёстрые вязаные половички-круги. Наша хозяйка загадочно прищуривает глаза и смотрит в окно. Задумчивый взгляд говорит о том, что женщина вошла в то особое состояние, когда память раскрывается и выдаёт картины минувшего полно и ярко. – По Киренге граница начинается, ниже впадения в неё Сухой речки. Раньше там доска была приколочена, сейчас-то не осталось ничего, а граница есть. Мно-о-ого приключений было.
Дедушка у нас охотник был хороший, в собаках толк знал. Когда он умер, собака после него осталась добрая. В лес пойдёт, сама что-нибудь добудет и домой притащит. Вот какая умница была! Но одно время собаки совсем перестали в лес идти, не слушались. Намучились мы с ними, сил нет. Подсказали нам позвать дедушку Павла. Позвали мы его, он велел бутылку водки принести под печатью. Распаковал её, налил в стопочку и сидит, смотрит. Потом говорит нам: на вас хозяин рассердился, потому что хозяйка встаёт и неумытая трубу открывает. И в самом деле, я утром встану, трубу открою, печку растоплю, а потом иду умываться да одеваться. Ведь как– то он об этом узнал! Но чтобы я с тех пор неумытая печку растопила – не-ет, никогда так не делаю. Когда перестала так делать, всё наладилось.
Этот старик мужа моего научил: ты как в лес придёшь, там, говорит, хозяин леса. Ты попросись у него, а так не ходи. И потом, говорит, когда бризгать будешь, выходи из зимовья, наливай водку в ложку и кверху её бросай. Как садишься исти – опять хозяина вперёд угости, на огонёк побризгай и потом ложку бросай кверху. Это авенский обычай. Если ложка упадёт так, как черпаешь, будет тебе фартить, ты охотиться хорошо будешь. Если упадёт горушкой, то ничего не добудешь.
Другой случай со мной был. Телята у меня потерялись, целую неделю мы их с Ферапонтом искали. А дедушка Павел рассказывал: где бы ты ни был, надо хозяина угостить. У каждого места есть свой хозяин. Налила я в три бутылочки из-под лекарства самогону и пошла угощать хозяина. Одну бутылочку под берёзку поставила, потому что надо не под иголочки, а под листики ставить. Открыла бутылочку, две конфетки и печенье положила, приговаривая: «Это вам, хозяин с хозяйкой, угощайтесь, а мне помогите найти телят». Вторую бутылочку на бугорчике поставила и так же попросила. Третью у скотного двора поставила, там курчавая берёза росла. Всё сделала и пошла домой. Легла спать, а под утро мне приснилось или почудилось, что заходит в дверь косматая эвенка и говорит: «Ну что вы лежите, идите встречайте телят». Я проснулась, смотрю в окошко, все трое телят стоят у ворот и ревут. После того я уж всему верить стала. Много ещё приключений было. Мама нам такого никогда не рассказывала, не учила, а я своих ребят учу».
Именно за то, что эвенки были «знающими», их слегка побаивались. Никто не рисковал обидеть или оскорбить эвенка, знали: «авенов» обидишь – всю жизнь будешь помнить, слово у них – камень. Особенно боялись шаманов, общающихся с духами. Говорят, что старые шаманы могли видеть на расстоянии, в состоянии транса глотали раскалённое железо, а уж порчу навести для них вообще труда не составляло.
Долгие годы прожив рядом с эвенками, баба Даша переняла их поверья. Наверное, большую роль здесь играет и то, что традиционную православную веру в этих местах долго и небезуспешно пытались искоренить, а свято место, как известно,
пусто не бывает. Ещё десять лет назад у бабы Даши в сарае под корытом лежали черепа животных. Коровий череп – чтобы коров медведь не задавил, а собачий – чтобы овец собаки не рвали. Правда, теперь она все эти пережитки старины ликвидировала. Но медвежью лапку, прибитую в сарае, «чтобы скот не падал», мы ещё увидели. У этой лапки тоже имеется своя история.
«Здравствуй, Миса!»
Муж бабы Даши, Ферапонт, известным охотником был. Всякого зверя добывал: и медведя, и сохатого, белку и соболя бил. Однажды притащил домой медведицу с двумя медвежатами. Лапка от одного из них и прибита под сараем. Другой раз насмелился Ферапонт в одиночку в берлогу залезть. Медведь всегда оставляет отдушину – дыру в своём логове, чтобы воздух поступал. Зимой её хорошо видно. Найдёт охотник берлогу, вырубит деревину подходящую и начинает через эту дыру в берлоге шуровать. Как только медведь полезет, нужно сразу в него стрелять. Если застрелили, зверь уже палку не дёргает, а если живой ещё, будет цепляться за неё. Когда Ферапонт набрёл на берлогу, напарника рядом не оказалось, и опытный охотник рискнул – выманил зверя и застрелил в одиночку. Ох, и ругали его потом мужики! Нельзя так рисковать, медведь шутить не любит и ошибок не прощает. К тому же добыть-то Ферапонт его добыл, а вытащить уже не смог, больно тяжёлый. Пришлось в берлогу лезть, вспарывать живот и там же разделывать. Утром вдвоём пошли и едва-едва тушу выволокли.
– У сына во всю стену шкура того медведя висит, – говорит баба Даша.– Даже моль её не съедает. А мясо так-то у медведя вкусное, жира много, сала. Совсем немного медвежьего сала съешь – всю зиму мёрзнуть не будешь.
Но это ещё что. Совсем недавно на севере бытовали рассказы о том, как эвенки охотятся на медведя с одним ножом, причём описание самого процесса у разных рассказчиков совпадает до малейших деталей. В прошлый приезд Галина Афанасьева-Медведева записала любопытнейший рассказ карамского охотника, которого сегодня уже нет в живых, но история сохранилась на страницах первого тома «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири». Это типичный «авенский» рецепт, как добыть медведя.
– Я сам видел, как охотятся по-авенски, – повествует рассказчик. – Один на один. Мы на пароходе с Якутии шли, и с нами один мужик был, авенк. Вдруг видим, идёт медведь по берегу, подошёл к воде, попил, всплыл на дыбы и рыбу смотрит. Стал пароход:
– Ту! Ту! Ту! Ту!
Медведю вроде знак даёт. А он не боится. Авенок и говорит:
– Товариса капитана, вывези меня на берег, я сейчас этого медведя возьму.
– Да ты что! У тебя ни ружья, ничё нету.
Он говорит:
– Я добуду.
Ладно, высадили настырного эвенка на берег, а он не растерялся, потому что «был у него хороший ножик». Эвенк идёт, навстречу ему – медведь, а на корабле весь народ на палубу высыпал, затаив дыхание наблюдает за этим реалити-шоу. Вот подходит медведь совсем близко.
– Ну чё, Миса, здравствуй! – говорит эвенк и руку ему протягивает.
Стал медведь лапу подавать, а охотник кепку с головы снял и даёт косолапому:
– На, возьми!
«А медведь лапам-то кепку поймал, – продолжает рассказчик. – Авенк в это время его ножом-то как ткнёт, снизу вверх живот ему вспорол и сразу полoжил. Оне же по-авенски охотятся, ножом».
– Я не боюсь с медведями никогда, потому что при мне всегда ножик, – говорит авенк. – А обмануть медведя мозно. Вот иди к нему, только спокойно, у тебя ничего нету в руках, пустые руки. «Ну, Миса, – говори, – здравствуй», руку подавай ему, а в это время снимай кепку, он лапам-то её сразу берёт, а ты его ножом. Ну, угадай токо в сердце сразу. Вот такой случай был».
Хорошо, дружно жили русские с эвенками. В гости друг к другу ходили, занимались натуральным обменом. Эвенкскую рыбу, кожаные сумки-«потайки», муленги, туяски меняли на русскую пшеницу, горох, коноплю. Казалось бы, незначительные колонии русских переселенцев, попадая в тяжелейшие для выживания, изолированные условия, должны были неминуемо раствориться в местных этносах. Но этого не происходило. Каждый раз срабатывал какой-то встроенный защитный механизм, который позволял русским не только сохранять свою веру и свою культуру, но и безболезненно распространять её на окружающие народы. Например, сегодня у эвенков сплошь русские имена и фамилии.
Лет десять назад во время этнографической экспедиции доктор географических наук, научный сотрудник Института географии СО РАН Милана Рагулина обнаружила рукопись, которую сохранили жители деревни Ханда. Автором уникального документа оказался бухгалтер Иван Бурляев, который несколько раз приезжал в Карам в военные и послевоенные годы и оставил свои воспоминания о селении. Автор был поражён самобытностью Карама, его отличием от других деревень и сообщил нам множество интересных подробностей из жизни таёжного села периода 1940-х годов. Это было время, когда традиционная культура всё ещё очень прочно сохраняла свои позиции, но бастионы её уже готовились рухнуть под мощным напором советской идеологии.
Так вот, Иван Бурляев писал: «Эвенки, выезжая к русским, говорили: «Поехали на Русь», «на Руси хорошо погуляли» и т.д. А русские, особенно старые, говорили: «Наша Русь нынче хороший урожай хлебов собрала» или же «На нашей Руси нынче навалилось осеннее ненастье». Словом, хоть и маленькая деревушка, всё равно называли Русью. Раньше корчевали тайгу, строили дома, как говорится, семейным подрядом. Ведь раньше не было никаких абортов и многие семьи были большими – до 15 и больше сыновей и дочерей, которые, вырастая, уже составляли полдеревушки. И так «на виду» русское население росло. Старые эвенки говорили, что русские плодятся как грибы, а строят дома быстро, как ласточки или стрижи свои гнёзда лепят, да и дома-то строят теплущие».
Как эвенк русскую в стряпки позвал
Редко, но бывали между русскими и эвенками смешанные браки. Например, у Октябрины Иннокентьевны Шорстовой 1936 года рождения мама – русская, родом из села Бирюльки Качугского района, а вот отец – настоящий эвенк. Как они познакомились – отдельная история, достойная экранизации. В традиционном обществе согласия молодых особо не спрашивали, родители могли женить сына по своему собственному разумению. Так случилось и с Иннокентием. Мать приглядела ему местную невесту – эвеночку, а он на дыбы: не люблю её, не буду жениться. Но куда уж там «не буду», когда столько оленей в залог оставлено и вообще всё честь по чести сделано – колым за невесту собран. Отходила матушка непокорного сына лопаткой и женила.
Женить-то его женили, а жить с молодой женой Иннокентий всё равно не стал, ушёл от неё. Однажды ехал из Качугского района в свою Новосёлиху и украл у богатого эвенка Манея дочь Марью.
– Год прошёл, посылает Маней к ним весточку: приезжайте со смиреньем, – рассказывает Октябрина Иннокентьевна. – Приехали они со смиреньем, простил их Маней, дал им коня, оленей, и стали они с Марьей жить. Она была хорошая охотница, но рано умерла. После неё осталась девочка. С горя отец начал пить, в карты играть, так что даже коня с упряжкой проиграл. Тогда поехал он себе стряпку искать. Тут и попалась ему на глаза Октябринина мама, которая моложе него была на 12 лет. Как глянул он своими тунгусьими глазами на девчонку да по плечу похлопал, она и растаяла и пошла за ним в его деревню. Стали жить, детей нарожали.
Правда, молодая жена так и не научилась разговаривать по-эвенкийски, и даже дети не сразу освоили язык, который считают теперь родным, в Вершинотутурском интернате. Деревня Вершина Тутуры расположена в ста пятидесяти километрах от Чинанги, где жило семейство. Добираться туда было трудно, потому в конце концов Октябрина Иннокентьевна и переехала в Карам – детей учить. А в Чинанге и сейчас ещё домов десять осталось.
– Я и сама там училась и потом за братом ходила, – говорит Октябрина Шорстова. – Коня дадут и женщину одну, чтобы нас отвезла. На коня только вещи сложить, а сами всю дорогу пешком идём. В интернате так и жили с сентября до мая. В войну там малышню хоть кормили маленько, хоть мёрзлой картошкой. Поедешь, где и заночуешь, как придётся. В дорогу еды какой-нибудь возьмёшь, лучше всего суховку. Делают её так: мясо сохатиное режут на тонкие длинные ленточки, вешают на шесты, и вялят на солнце, пока оно не высохнет совсем. Получится суховка, авнское блюдо. Зимой, когда мяса не бывает, замочишь в горячей воде да и варишь суп. Ноги сохатиные тоже высушишь. Зимой не всегда же добывали, а тут – раз, и в горячей воде замочишь суховку, холодец сваришь или суп. Всё к месту прибирали. Ничё не бросали.
А рыбу опеть сушили над костром. Сорога, шшука бывала у нас. Карамские приедут, меняли рыбу авнскую на картошку, на муку. Да раньше всё меняли. Если шибко нечем, то
просто коноплю меняли. Однажды брат много рыбы поймал. Смотрю, а они очень уж быстро её выпороли, даже кровь не вычистили. Отец говорит: «А, русские всё съедят», – подсмеивались тоже над русскими. Теперь-то все грамотные, разбираются.
Оленину эвенки варили кусками. Ну, пожаришь когда. Из Москвы один приезжал, какой-то Стиллер. Тоже книгу писал про северных людей, называлась «Таёжные дали». Он и у нас жил. Посмотрел на нашу еду. А мы ведро сварим сразу на обед и едим.
– Так вы за раз, – говорит, – едите? Разве можно съесть столько?!
– Обед же!
– О-о-о! Мне в Москве это хватило бы на полгода, – говорит учёный.
Молоды-то были, помногу ели, а теперь-то тоже. Я под вёсну не могу, хочу сохатину, и всё. Даже умираю, хочу сохатину.
Муж Октябрины Иннокентьевны, Юрий Фёдорович, пока был в силах, каждое лето двух-трёх сохатых добывал, каждую осень – медведей. Жаль, что поговорить с ним не удалось, старый охотник плохо себя чувствует и почти не встаёт с кровати. В кладовке у Октябрины Иннокентьевны до сих пор хранится охотничье обмундирование мужа. Тут и коколды – двойные варежки из собачьих шкурок, и сохатинные наговицы, которые надевают поверх брюк. Давно уже они лежат без дела, но сегодня внук Максим достаёт их, чтобы продемонстрировать нам. Сам парень на охоту не ходит, хотя стрелять его дед научил. Отслужил в армии и вернулся в родную деревню, не захотел никуда уезжать. Теперь не женится, живёт с бабушкой и дедушкой. Когда стайку почистит, когда на огороде поможет. Эвенкийского языка парень не знает и даже не интересуется. Язык и предания – всё это гораздо интереснее внучкам, которые живут в Красноярске. А Максим из всей скотины держит одного коня и только о нём одном заботится, как о лучшем друге.
– Был бы колхоз, пошёл бы он работать туда, – горько вздыхает Ок-тябрина Иннокентьевна и ерошит непокорные вихры «своего эвенка». – Он ведь не ленивый, всё делать может, весь в отца. Его отец в третьем классе пошёл в колхоз помогать да так работать начал, что его сразу «на подхват» поставили. В колхозе скота много было, работы хватало, и молодёжи много было. Скота до Гараньи гоняли, в Таикан, в Хонду. Летом своим ходом в Качуг гнали на забой, а свиней плавили на плотах. Как перестройка пошла, так до нуля и доперестраивались. Вот молодёжь и побежала кто куда. А кто не убежал, на дурные деньги пьёт. Карамские теперь по всему миру живут. Недавно мои внучки племянницу по Интернету разыскали аж в Америке, вот ведь что делается.
Пока мы разговариваем, Максим успевает сбегать в сарай и принести настоящие музейные экспонаты – предметы эвенкийского быта. Здесь и сумки из рыбьей кожи, муленги из бересты, охотничьи наговицы и коколды и что-то ещё.
– Раньше, когда вёдер не было, муленги из берёсты шили, ими и воду таскали, и за ягодами ходили, и в бане мылись, – вспоминает Октябрина Иннокентьевна. – А под воду двойную муленгу шили. Из рыбьей чешуи или из лбин сохатого делали самые лучшие, непромокаемые сумки – «хутакан», а по-русски сказать, потаёк. Вместо ниток конский волос брали, а ещё лучше – жилу от сохатого, скрученную с конаплём. Эту сумку мне ещё в Муринье делали, ей уже 50 лет и ничего не делается. Наделает бабушка Прасковья эти муленги, битки, набирки, туяски, горновики, и меняем их на продукты у русских. Карамские хлеб растили, а мы – нет, вот и меняли на хлеб да на горох. А наши тунгусы рыбачили, рыбу сдавали, а за неё тунгусам давали «урлон» – рулон бумаги. На эти «урлоны» в магазине выдавали продукты. Пока мужики с «урлонами» пешком придут, у нас уж половина народа с голоду пропадёт.
Из тополины эвенки делали крепкие лодки-долбёжки. Начинали делать с весны. Лениться не будешь – за два-три дня вдвоём лодку сделаешь. Отец померит тополь, чтобы обхват был. Поменьше обхват – пятерик будет, побольше – семерик, то есть лодка примерно 90 сантиметров в ширину. Свалят тополь, а раньше всё пилой да топором рубили, «Дружбы» не было. Отмерят на стволе семь махов, потом начинают теслой долбить. Нос, корму сделают, а потом тятя сам начинал чистить, нам это делать не доверял, тут легко было дыру
начистить. Вычистит, а мы в это время готовим хворост. Поставит две скамейки, а мы между ними должны хворост натаскать да наложить. Зажгут огонь и лодку на скамейки ставят над огнём. Воду, веник заранее приготовят и смачивают, чтобы не загорелась, распаривают лодку. А из тальника распоры наставят, чтобы лодка расходилась пошире. Лодка большая получалась, втроём-вчетвером садись и плыви, и грузы на ней возили. Зимой можно на коне, а летом другого транспорта не было.
В своих заметках Иван Бурляев восторгался умением карамских женщин управлять теми лодками-долблёнками. «Всюду в основном женщины, подростки, девушки, сновали по реке на лодках-долблёнках: то сверху приплывут, то толкаются на шестах снизу. В лодку заглянешь – попутно собранные ягоды, грибы, а также рыба (ленки, сиги, хариус). Здесь в летнее время единственный транспорт – лодки, и потому все девчонки и мальчишки уже обучаются навыкам управлять лодкой по такой быстрой реке шестом и веслом. Вот где ежедневная физзарядка хорошая. К вечеру весь берег бывает усеян этими лодками».
Теперь трудно представить себе такое оживлённое движение на местной реке. Только летом приедут сюда «отдыхающие» – молодые, сильные и успешные люди. Они приплывут на моторных лодках, оснащённых по последнему слову техники, встанут где-нибудь за деревней палаточным лагерем, будут веселиться, как хозяева, – чтобы вся деревня слышала. Они привыкли брать от жизни всё. Им-то можно рубить лес, электрическими удочками, словно ситом, черпать из Киренги рыбу. А местные потерпят, конечно, да и что ещё им остаётся? Без нормальной дороги, практически без связи, без своего производства. Остаётся жаловаться. Например, недавно карамчане написали письмо в адрес правительства, копия пришла и нам в редакцию. В письме один только вопрос: «Почему мы стали не нужны государству?». Но Карам не получит ответа, как не получат его тысячи других русских деревенек.
Скоро придёт лето и деревня оживёт, загомонит на разные голоса. К местным бабушкам нагрянут дети и внуки. Говорят, кто хоть раз был в этих местах, обязательно захочет вернуться, снова испить воды из лечебного источника Гилак, побродить по «тунгусьим местам». Чем-то тянет людей Карам, не хочет отпускать. Но пока в деревне тихо. Впрочем, не совсем. Мы выходим из дома Шорстовых, и тишина взрывается рваным, отчаянным ритмом, который несётся нам вслед из огромной колонки, прибитой на торце дома. Это Максим включил в нашу честь прощальный марш.