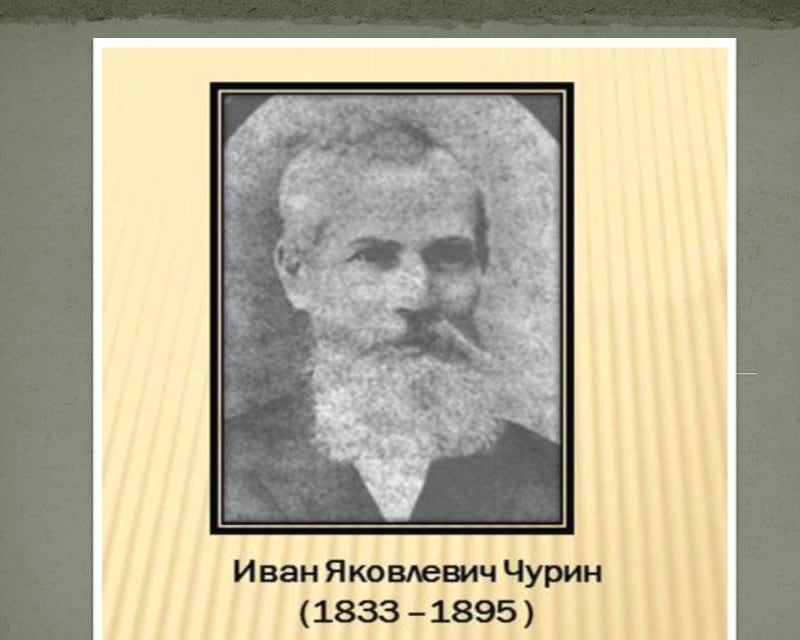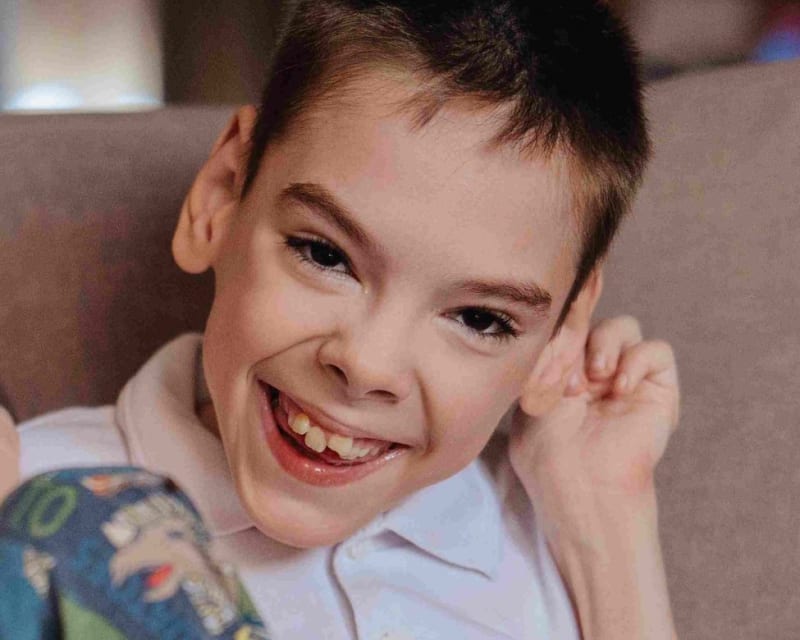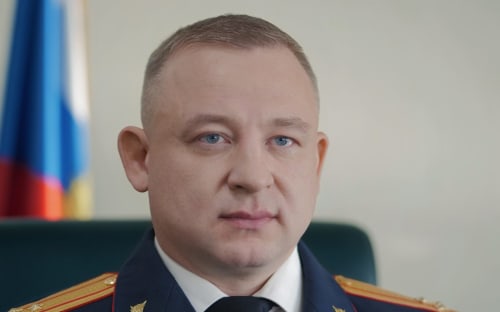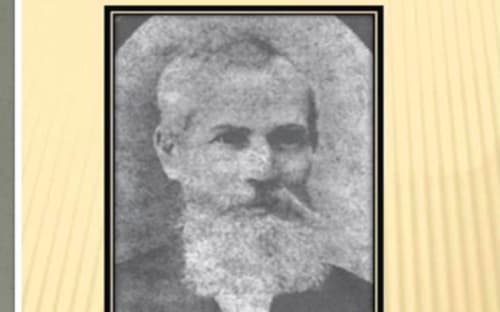Девятый круг. Записки смертника
В полном объёме рукопись публикуется впервые
Автор: Валерий Ладейщиков, журналист «Восточно-Сибирской правды», политзаключённый в 1936–1956 годах
В ту пору – начало тридцатых годов – мир искусства Свердловска жил интересной жизнью. Заметное оживление внёс Борис Горбатов, автор известной в те годы повести из комсомольской жизни «Ячейка». Приехав в столицу Урала собкором «Правды», он стал заводилой многих славных дел. Одно из них – создание в городе Дома искусств. Освободившийся двухэтажный особнячок молодёжной газеты «На смену» сами переоборудовали и расписали стены. В кафе, к примеру, был изображён пир на Олимпе, где поручик Лермонтов поднимал чашу, чокаясь с Петраркой и Шекспиром. На выходе со второго этажа, где помещался небольшой театральный зал, бежал в развевающейся крылатке и с цилиндром в руке Пушкин, оглядываясь: «Куда я попал?»
Была тут и небольшая библиотечка, в которой можно было видеть дореволюционные издания стихов Н. Гумилёва и А. Ахматовой. Скажем, «Стихи о Китае и Индокитае» с диковинными рисунками драконов с чаш четырёх-пятитысячелетней давности.
Рядом – тоже небольшой читальный зал с деревянным круглым столом и такими же сиденьями вокруг.
Да, к тому времени я уже жил в Свердловске. Осенью 1933 года стал студентом Уральского энергетического института, влившегося потом во вновь созданный политехнический институт, ставший вторым по величине после Ленинградского. На учёбу меня не отпускали – ни в редакции, ни в райкомоле. Слышал потом, что «за самовольный отъезд на учёбу» меня исключили из комсомола. Но восстанавливаться не стал.
Так вот, Дом искусств оживал после одиннадцати часов вечера, после окончания спектаклей и концертов. Там мне довелось встретиться с композитором Сергеем Прокофьевым и другими деятелями искусства. Прокофьев приехал прямо с концерта, казался усталым, но охотно рассказывал о музыкальной жизни страны и Запада – Америки и Италии, где недавно побывал. Об авангардизме, грохоте – и начинающей пробуждаться тяге к мелодии. «Это удивительно и трогательно – слышать призыв: «Назад к Верди!» Рассказал о модерновой, наделавшей немало шума в прессе новой опере. Её герои – бежавший с плантации негр с семью серебряными пулями в кольте. Погоня… Чёрные и белые лица преследователей в кустах… Треск и грохот барабанов, едва ли не единственных инструментов в оркестре. Негр шлёт выстрел за выстрелом – и снова рожи. Безумие… И вдруг среди этого шума и грохота, – заканчивает Прокофьев, – словно лесной ручеёк, звучит народная мелодия».
В то время в прессе дружно громили Прокофьева и Шостаковича: «Музыкальный сумбур!» – и хлеще. Я ожидал видеть перед собой сноба в сногсшибательном галстуке, а встретил просто одетого большого мастера с русской душой.
Запомнилась ещё одна американская балерина, немного говорящая по-русски. Она утверждала, что музыка в балете – лишнее. Язык пластики, жестов столь богат, что не нуждается ни в словах, ни в музыке. Ни в каких подпорках. В подтверждение своих слов она танцевала – очень талантливо и выразительно. За что ей и шумно аплодировали, слегка посмеиваясь над мыслями. «Ну хорошо, можно оставить немного музыки. Например, барабан. Для ритма», – закончила она.
Говорили, что немалую роль сыграл Б. Горбатов и в том, что тогдашний первый секретарь обкома партии И.Д. Кабаков отдал писателям свою старую дачу на берегу озера Шарташ. Ему построили новую. Мне довелось побывать под выходные дни на этой даче. Она выглядела и вправду славно – двухэтажная, с башенкой среди стройных сосен. Строил её какой-то золотопромышленник или иной богатей. Срубленная из толстенных сосен, она являла собой искусную смесь природы и комфорта. Простые окна – и шторы с шёлковыми шнурами и бронзовыми штучками. Вверху необычная пятистенная комната. В пятой стене – из стекла – дверь на балкон, лесенка на башенку.
В этой комнате стоял диван – и вечером «в творческий час» на него умудрялись усаживаться чуть ли не вдесятером, отвоёвывая хоть подлокотник или спинку. Умудрялись даже играть в футбол двумя командами – «Уругвай» и «Парагвай», по пять игроков в каждой. Но какой оглушительный свист стоял вокруг, когда наш капитан Горбатов, выбегая на поле, споткнулся и растянулся на траве! Пришлось повторить выход, чтобы капитаны могли обменяться дружеским рукопожатием. Хотя, похоже, в те дни Уругвай с Парагваем воевали.
На специальных скамейках сидели зрители – горничная с дачи и жена Горбатова с сосновыми ветками в руках. Ими награждали участников дружеской встречи.
Так вот и жили. Память избирательна. Сейчас, в камере следственного корпуса, она вытаскивала из минувшего самое светлое. С приобщением к миру искусства и литературы рождалось и чувство протеста против фальши и уродств жизни вместе с зарождающимся культом личности Сталина. Юность особо чутка к этому – ко всему, что кажется ей лишённым правды и справедливости. И это не осталось без внимания следствия.
Гений ли Сталин?
Мы трое – Марков, Филиппов и я – были арестованы по доносу Николая Князева, жившего в одной с нами комнате. Он и учился в одной группе со мной и Марковым. Одно время мы были даже товарищами. Князев, думая, как и мы, бесстыдно рвался в комсомол, к карьере. Для успеха ему был нужен поступок. И он пошёл на предательство, подговорив и запугав ещё одного студента – Вавилова.
Но до чего же мы сами были глупы и наивны! Одним из методов следствия было стремление разжечь вражду между свидетелями и обвиняемыми, между самими обвиняемыми. Уверить каждого, что он сам-то по себе перед советской властью чист, а вот окружение… Мне, к примеру, Сааль говорил:
– Как вы, рабочий паренёк, могли попасть в такую компанию? Филиппов ещё у себя в Чувашии был тесно связан с националистическими кругами и заслан сюда для вербовки. А Марков ещё в Средней Азии имел друзей-контрреволюционеров.
И ещё:
– Вот вы защищаете Маркова. А знаете, какие он на вас даёт показания? Слушайте…
Однажды я в упор спросил Сааля:
– Может ли советское следствие использовать в своей работе провокационные методы?
Сааль усмехнулся:
– Нет, конечно. А кто вам внушает подобные мысли?
Сокольского и третьего уже вывели из камеры. Возможно, осудили. Какое-то время я оставался один. Четыре шага к двери, поворот, четыре к окну:
Лишь неба голубой клочок
сквозь узкое окно.
Решётка – чёрный осьминог,
угрюмо и темно.
…А за окном – подать рукой –
зелёный шум листвы.
Лохматый тополь молодой,
я так к нему привык…
Сегодня утром я узнал,
что ночью шла гроза,
что рядом девушка без сна,
мертвы её глаза.
Что-то вроде «Баллады Рэдингской тюрьмы». И ещё на шаги хорошо ложились стихи Бориса Пастернака:
В наше небо с его безобразьем
с октября забредает зима…
Как вести себя на следствии? Полагая себя революционно настроенным студентом, я считал делом чести не выкручиваться, а прямо и откровенно высказывать и отстаивать свои убеждения. Для следствия я был ясен как на ладони, и нередко оно играло на этом. Порой во время допроса заходил начальник следственного отдела Маховер с ромбиком в петлице.
– Послушай, что говорит Ладейщиков о Сталине, – обращался к нему Сааль. Маховер слушал, потом предлагал:
– Пройдёмте-ка ко мне в кабинет. Там нам никто не помешает.
Маховер любил такие «доверительные беседы», без протокола. Усаживал не на стул, а на диванчик, «запросто».
– Та-ак, значит, весь мир признаёт гениальность товарища Сталина, а Ладейщиков, видишь ты, не признаёт. Так?
– Гений рождается раз в сто лет, – рассуждал я. – У нас есть гений – Владимир Ильич Ленин. А Сталин – мы же сами пишем и говорим – его ученик. О нём ещё скажет история. А сейчас – нужно время.
Маховер снисходительно улыбался:
– Ничего, ещё обломаешься. Получишь лет пять-семь срока в дальние края, освободишься. Сколько тебе будет? Лет двадцать семь? Прекрасный возраст! Дальше едешь – тише будешь.
Хорошо сказано! Хоть в подзаголовок ставь. И поставлю.
«Дальше едешь – тише будешь»
Следствие приближалось к концу. Показания Н. Князева и В. Вавилова (на суде его почему-то не было, как не было с ним и очной ставки), а также Г. Филиппова и В. Маркова против меня звучали примерно одинаково: «Знаю В. Ладейщикова как активно антисоветски настроенного студента, враждебно относящегося к партии и правительству, лично к товарищу Сталину»…
Дальше шли примеры. Конкретно это выражалось в том, показывали они, что не признавал гениальности Великого Вождя. Марков вспоминал, как однажды вечером я, обходя на площади портрет Сталина, сорванный ветром, заметил: «Взяли бы и повесили». При том усмехнулся, что имеет явно террористический смысл.
Князев показал, будто при обсуждении убийства С. Кирова в Ленинграде Ладейщиков сказал: «Если террорист хотел взбудоражить страну, то стрелять надо было не в Кирова, а в Сталина».
Дальше – принимал участие и сам рассказывал антисоветские анекдоты. На суде Филиппов привёл единственный: «Вопрос: будет ли у нас третья пятилетка? Нет, ибо высшая мера наказания в СССР – десять лет». (Надо помнить время – 1935 год, шла вторая пятилетка.) Рассказывая этот анекдот, Филиппов по-дурацки ухмыльнулся. Хмыкнули и заседатели. Председатель встал и призвал всех к порядку.
– Не вижу ничего смешного!
Ещё «важный пункт» обвинения: «Хранил Воззвание Временного правительства под названием «Уральская жизнь».
На следствии и на суде я пытался объяснить:
– Да, имел как архивную ценность номер газеты «Уральская жизнь» Уральских Советов первых дней февральской революции 1917 года. Интересно же! В газете напечатаны отречение от престола Николая II и за ним Михаила, информация об образовании Временного правительства и его Обращение «К гражданам России». Но в то время оно не было контрреволюционным, просто не успело ещё им стать.
Объяснял, но безуспешно. Следствие стояло на своём: криминал.
Но вот оно закончилось. Из следственного корпуса нас переводили в пересыльную тюрьму. И тут в дежурной комнате я неожиданно встретил Филиппова. Обычно такое не допускалось. До суда обвиняемые находились обычно в разных камерах. Подумалось на миг, что это – случайность или провокация? Тот сразу ринулся ко мне:
– Товарищ Ладейщиков! (О том, что мы не были близки, говорит хотя бы это обращение. По имени он не называл ни меня, ни Маркова.) Прости, что я налгал на тебя. Скажи, что мне теперь делать, что? – без конца причитал он. Раздосадованный, я ответил:
– Если оболгал – откажись от показаний. Напиши прокурору. Имей мужество отвечать за свои поступки.
После этого нас развели по камерам. Да тут перед санобработкой произошла стычка. Я воспротивился стрижке головы наголо:
– До суда я считаюсь полноправным гражданином. И вы не имеете права подвергать меня этому унижению! – кричал я.
Об этом доложили заместителю начальника тюрьмы Маркову, который ведал распределением подследственных по камерам. Говорили, что в прошлом он был довольно крупный уголовник и имел намётанный глаз. Марков направил меня в камеру № 21. Позже я узнал, что двадцать первая славилась как камера «политико-аристократическая». Из окна в ней наблюдали за моей стычкой с охраной, и староста заявил мне:
– Лезть на рожон – глупо. Но и похвально.
Но о двадцать первой я ещё расскажу…
Как ни странно, но заявление прокурору с отказом от показаний Филиппов всё же написал. Возможно, это было последней попыткой остаться человеком, проявить мужество. (Впрочем, многое в его поведении для меня осталось тайной. Как и то, что после суда Филиппов исчез и не попал с нами на Колыму.) Это возымело своё действие. Дело направили на доследование. Не знаю, как другие, но я и Филиппов снова оказались в следственном корпусе НКВД. Месяц Сааль терзал меня допросами о том, как я «запугивал» и «принуждал» Филиппова отказаться от его показаний. Филиппов не выдержал. Он вновь подтвердил их. А может быть, всё это было очередной игрой следствия. Я же на все вопросы Сааля отвечал: «Нет, не угрожал и не принуждал». Но это уже не имело значения.
По окончании следствия мне дали свидание с матерью. Оно проходило в небольшой комнате. На всю жизнь я запомнил, как вошла заплаканная мама, подталкивая за плечи среднего брата Юрия. Ему было в ту пору десять лет. В его глазах застыли боль и изумление. Как водится, Юре всегда ставили в пример старшего брата. И вот… Снова пересыльная тюрьма. И вновь Марков направил меня в камеру № 21. Там встретили меня тепло и шумно, как старого знакомого.
Двадцать первая была как бы особая камера – для «интеллектуалов и непокорных» (и в тот раз я не сумел точно определить её суть).
Действительно, в ней сидели примечательные люди. Начнём со старосты – Витвицкого. Он был одним из руководителей журнала «Уральский следопыт». В ту пору начался шумный разгром изданий, увлекающихся «иностранщиной» (позднее назовут «безродным космополитизмом»). Среди других под огонь попало издательство, выпускающее в свет журналы «Всемирный следопыт», «Вокруг света» и «Турист» (возможно, последний назвал не точно). «Вокруг света» уцелел. «Турист» сразу же закрыли. Та же судьба ожидала и «Всемирный следопыт». Однако он чудом сохранился, только попал «в ссылку» и обрёл имя «Уральский следопыт», с каким пребывает и поныне.
Когда-то Витвицкий водил суда на Лене и других реках Сибири и Дальнего Востока. Словом, человек бывалый. Острый и язвительный, с крючковатым носом и саркастически изогнутыми губами, он походил то на Дон Кихота, то на Мефистофеля. Совсем иначе внешне выглядел племянник Софьи Андреевны Берс, жены Льва Толстого, окрещённый кем-то «представителем вырождающегося дворянства». С птичьим носом и тонким голосом, он был невысок и тщедушен. Но порой вырастал, выступая, как римский трибун.
Однажды загремела дверь, и на пороге камеры показался странный человек в опорках на ногах, в прожжённых пиджаке и брюках. А лицо библейского пророка – с горящими чёрными глазами и густой тёмной бородой.
– Самуил Брам, – представился он. (Или Марк? Запамятовал.)
В дни отпуска Брам решил совершить путешествие по Северному Уралу. Маршрут его оказался не совсем обычным: шёл по ссыльно-кулацким поселениям, а отдыхая у костра, что-то записывал в блокнот-тетрадку. Будучи не очень практичным человеком, ночуя у костра, прожёг одежду и обувь.
Разумеется, дня через три ближайшая спецкомендатура забрала его и доставила «куда следует» по подозрению в шпионаже.
Больше всего Брам негодовал, что, ведя дело, следователь то и дело приводил строки из его тетрадки.
– Какое вы имеете право совать нос в мой личный дневник? – кричал он. – Это бесчестно! Нельзя судить за мысли!
Безусловно, так может рассуждать только сумасшедший – к такому мнению всё больше стало склоняться следствие и решило прибегнуть к экспертизе на вменяемость. Так как Брам решительно отказывался идти в медчасть, однажды трое врачей вошли в нашу камеру, сопровождаемые начальством. Стали спрашивать, какое сегодня число и прочее.
– Вон! – неистово заорал Брам. – Вам не удастся ошельмовать и засадить меня в сумасшедший дом. Конституция… права гражданина! – гремел он.
Находились в камере ещё два в прошлом белых офицера, весьма корректных и безобидных. Они обвинялись в том, что «под видом игры в преферанс занимались антисоветской агитацией, рассказывая анекдоты». (Назовите мне преферансистов, которые в перерыве между пульками – или тасуя карты – не баловались бы этим?)
Была среди нас и прочая «интеллигентная сволочь», как выражался Марков, о которых помню смутно.
Вечером у нас устраивалось что-то вроде «часа культуры и отдыха».
Берс делился воспоминаниями о графе Льве Толстом и его близких. Витвицкий рассказывал о диковинных путешествиях. И забавных. Скажем, о том, как его молодая жена вскоре после свадьбы решила проплыть на его судне по Лене. Река эта богата плёсами и перекатами. Как-то, выйдя на палубу, изящная леди услышала, как её благоверный с капитанского мостика подаёт такие отчаянные команды, что стремглав устремилась вниз в каюту. Капитан застал её в слезах:
– Боже мой, я никак не думала, что ты можешь так… так.
Брам читал лекции по высшей математике, упоённо записывая на чёрном кожухе «голландки» (в старой тюрьме было ещё печное отопление) интегралы:
– Смотрите, какое изящное решение!
К счастью, тогда ещё не было пыток. «Методы физического воздействия» пришли позже – в тридцать седьмом.
15 декабря 1935 года вызвали на суд. Он шёл два дня. Нас судила Специальная коллегия Свердловского облсуда. Небольшая комната с возвышением, стол, накрытый красной материей, за которым сидела «тройка» в мундирах НКВД. Суд был закрытым, без участия представителей обвинения и защиты. Кроме охраны и нас не было никого в зале.
Не знаю, стоит ли подробно описывать ход судебного разбирательства – столько уже о том говорено. При всём том я не оговорился – разбирательства. Именно так, по форме, пытались обставить в те годы судилище. Председатель коллегии прочёл обвинительное заключение. В нём говорилось о том, что, как установлено, студенты Уральского политехнического института имярек, создав преступную группу, занимались антисоветской агитацией, направленной на дискредитацию коммунистической партии, советского правительства и лично товарища Сталина. При этом отдельные подследственные высказывали террористические намерения.
На скамье подсудимых находились, кроме нас троих – Филиппова, Маркова и меня, арестованные позднее по доносу того же Н. Князева (а возможно, и В. Вавилова) Андрей Волков, Илья Катаргин и Юрий Горохов. Вожаком группы был назван Гавриил Филиппов, в чём он и признал себя виновным. Мы дружно восстали против этого, как и против «организованной деятельности». Какой он вожак? Первокурсник Филиппов по уровню развития был ниже любого из нас, имел бедную речь, крикливо и нелепо одевался (зелёные или красные носки поверх брюк) и прочее, словом, говоря по-нынешнему, рейтинг Гаври был весьма невысок.
Затем суд приступил к допросу подсудимых, стремясь «выявить конкретную вину каждого». Я подтвердил то, о чём говорил и на следствии. Ни в какой преступной группе не состоял. Возможно, отдельные мои высказывания и можно оценить как антисталинские, но не как антисоветские.
– Против советской власти я не выступал.
Утром 13 декабря допрос обвиняемых продолжался. А в коридоре теснились наши родные. Боюсь, они переживали всё, особенно матери, значительно сильнее, чем мы. После того как коллегия удалилась на совещание по вынесению приговора, нам дали свидание с родными.
– Ой, говорят, что на тебя показывают больше всех, – плакала мама.
– Успокойся, не больше, – гладил я её по голове.
Наконец раздалось:
– Встать! Суд идёт.
Спецколлегия Свердловского областного суда приговорила Филиппова к десяти годам исправительно-трудовых лагерей, меня и Б. Маркова к семи, А. Волкова и И. Катаргина – к пяти. Ю. Горохов, не без нашей помощи умело сыгравший на суде роль простачка, далёкого от политики, был признан невиновным и освобождён из-под стражи.
Продолжение в следующем номере «ВСП».